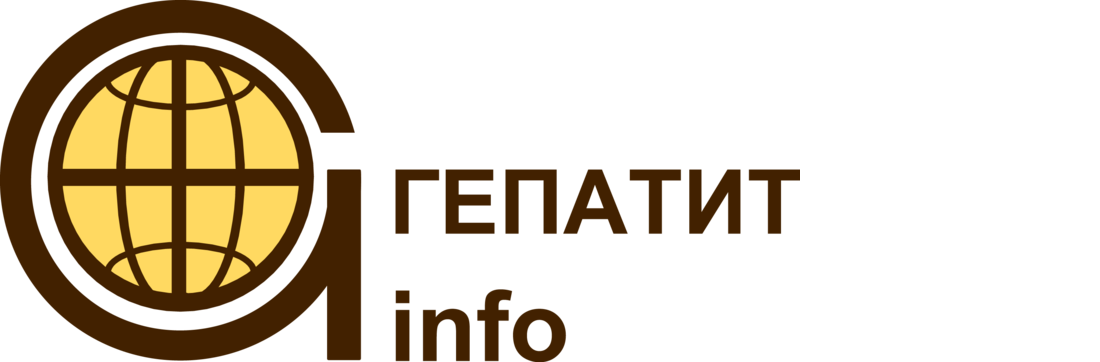Написать биографию выдающегося ученого — дело будущего. Пока мне и моему другу Мурату Мамедову удалось издать сборник, приуроченный к 90-летию Михаила Суреновича. В сборнике — воспоминания его учеников, друзей, сотрудников, которым посчастливилось с ним работать. Еще некоторые документы, фотографии. Мы преследовали цель — сохранить в памяти облик М.С. Балаяна, рассказать о некоторых его привычках, привести запомнившиеся нам фразы.
Конечно, в предлагаемом очерке я не претендую на полноту биографических сведений о М.С. Балаяне, на его законченный портрет, исчерпывающий рассказ о его вкладе в науку. Это будут мои воспоминания об общении с ним. И все же прежде несколько слов о его биографии. Тем более что в нашем сборнике приведена его автобиография, где сообщены основные факты его жизни.
Михаил Суренович Балаян родился 11 мая 1933 года в Москве. Его отец Сурен Богданович Балаян был подполковником госбезопасности. Насколько мне известно, он был переведен в Москву с Кавказа. В КГБ на Лубянке он встретил Л.П. Берия. На следующий день был арестован и расстрелян. Это было в 1937 году. Впрочем, Михаил Суренович не любил говорить об этом. Но так в его жизнь вошла трагедия времени.
Во время войны он с матерью Хавой Израилевной, инженером (она работала на предприятии авиационной промышленности), оставался в Москве. Однажды на набережной Москвы-реки Михаил Суренович показал мне место, где упал сбитый фашистский самолет.
Потом были годы учебы в 1-м Московском медицинском институте, который М.С. Балаян окончил в 1957 году, аспирантура в Институте полиомиелита АМН СССР, в 1961 году — защита кандидатской диссертации. Уже в 1971 году — защита док- Балаян Михаил Суренович 18 286 М.И. МИХАЙЛОВ. ВИРУСНЫЕ ГЕПАТИТЫ. ИСТОРИЯ И ИСТОРИИ торской диссертации. Разумеется, было продвижение по служебной лестнице: младший научный сотрудник, старший научный сотрудник, с 1976 года — руководитель лаборатории гепатита Института полиомиелита АМН СССР. Были служебные командировки в Республику Куба, в Уганду. За время работы (1971–1976 гг.) во Всемирной организации здравоохранения М.С. Балаян побывал в восьми странах Европы и Азии. Общение с учеными разных стран, несомненно, было полезно для собственных исследований. Счастье подарила встреча с Викторией Дмитриевной, его ровесницей, тоже медиком — она стала его женой. В 1958 году родилась дочь Ирина…
Сохранился «Отзыв о научных трудах профессора М.С. Балаяна и их значении для медицинской науки и практики здравоохранения». Отзыв был написан выдающимся ученым, академиком М.П. Чумаковым, который рекомендовал М.С. Балаяна в члены-корреспонденты АМН СССР по специальности «вирусология». С отзывом можно ознакомиться в нашем сборнике.
Михаил Суренович начал свою научную деятельность под руководством М.П. Чумакова в 1957 году.
«М.С. Балаяна, — писал М.П. Чумаков, — уже тогда отличала тщательность и скрупулезность в постановке опытов, большая трудоспособность, хорошее знание литературного материала и оригинальность мышления».
В отзыве очерчен научный путь М.С. Балаяна, названы основные направления его научных поисков, вклад в разработку методов вирусологической диагностики полиомиелита, в исследование штаммовых вариаций полиовирусов, диких и вакцинных. М.П. Чумаков подчеркнул, что М.С. Балаян впервые изучил процесс инактивации полиовируса в «пленках», особо отметил, что значительная часть исследований ученого была осуществлена на обезьянах: это «давало возможность переносить установленные закономерности на человека с минимальной коррекцией». «Эти исследования, — писал М.П. Чумаков, — широко цитировались в мировой литературе, были использованы в лабораториях Института им. Пастера в Париже». Еще в отзыве речь шла о чрезвычайно интересных исследованиях Михаила Суреновича, позволивших установить причину низкой эффективности полиомиелитной вакцины в тропиках. И, разумеется, в отзыве представлены масштабные исследования М.С. Балаяна в области вирусных гепатитов.
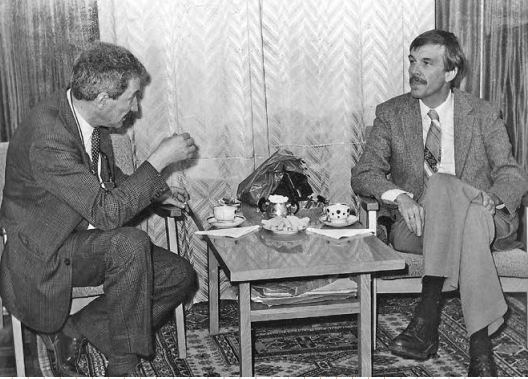
Именно с изучением вирусных гепатитов и было связано мое общение с Михаилом Суреновичем.
Я познакомился с М.С. Балаяном тридцать лет назад. Мне было тогда 28 лет. Конечно, я читал его работы, знал о том, что он является заместителем директора по науке Института полиомиелита и вирусных энцефалитов им. М.П. Чумакова, видел его на конференциях и слышал о нем от своих друзей — Алика Анджапаридзе и Мурада Мамедова, работавших в его лаборатории. Потом, уже познакомившись с Михаилом Суреновичем, я не сразу привык к его шутливому и вместе с тем очень доброжелательному стилю общения. Каждый раз меня смущало, когда он, пропуская меня в дверях, говорил: «Наука, вперед!» Я пытался пропустить его, суетился, говорил, что это он ученый, а он, улыбаясь, отвечал: «Нет, я администратор, это вы научные сотрудники». И почему-то не было ощущения, что он над тобой смеется, и не было обидно. Так же воспринималась его обычная фраза: «Докладываю». (Это он мне-то докладывает?!)
В начале 80-х годов, по личному заданию Генерального секретаря ЦК КПСС Л.И. Брежнева, Михаил Суренович, Иосиф Васильевич Шахгильдян и я были включены в комиссию Министерства здравоохранения СССР по проверке Республики Узбекистан по вирусным гепатитам. В то время было непонятно, что является причиной столь высокой заболеваемости. Гепатит А связывали с социальными условиями жизни, гепатит В — с медицинской деятельностью. Существовала также теория, что все это токсический гепатит, вызванный химикатами, которые применялись для выращивания и уборки хлопка. Последняя причина была выгодна партийному руководству республики: хлопок нужен стране, и любые жертвы оправданы. Конечно, основная причина была в широком распространении вирусов гепатитов А и В. Однако суть не в этом. Это был первый опыт моей совместной работы с Михаилом Суреновичем.
В 1990 году я перешел работать в Институт эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи РАМН. В это время в Ростове Великом Институт вирусологии проводил большую конференцию по вирусным гепатитам с приглашением многих иностранных участников. В программу конференции были включены и мой доклад, и доклад Михаила Суреновича.
Для меня подарком стало, что нас поселили в одном номере. Я думал, что у меня открылась возможность более тесно пообщаться с Михаил Суреновичем. Однако находиться нам вместе в одном номере оказалось очень тяжело: Михаил Суренович был ярко выраженный «жаворонок», а я «сова» с вытекающими из этого всеми последствиями. Мы мучились, пытаясь подстроиться друг под друга.
Вероятно, мне не следовало бы писать об этом, если бы не одно обстоятельство, которое очень повлияло на мою жизнь и, как говорят в Америке, я в тот момент «вытащил лотерейный билет на миллион долларов». В это время я «носился» с идеей написать «Энциклопедический словарь по вирусным гепатитам», но понимал, что один с ней не справлюсь. Надо отметить, что в это время не было книг о вирусных гепатитах на русском языке. Михаил Суренович тут же поддержал меня, придав моим рассуждениям завершенность, справедливо сузив круг рассматриваемых проблем, тем самым вычленив ключевые аспекты изучения гепатитов.
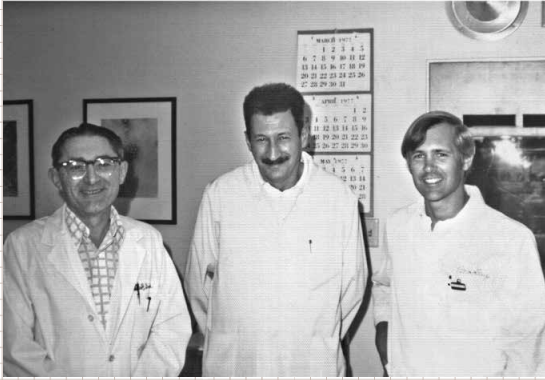
Писал Михаил Суренович быстро, и практически исправлений на страницах не было. Потрясающая эрудиция, четкость в выражении мысли, уверенность в своей правоте. Конечно, за этим стояло знание современной литературы (хочу заметить, что это время было без Интернета, где сегодня можно найти практически любую статью в форме абстракта или даже полнотекстовую). Мне же приходилось тщательно и, что самое главное, достаточно долго работать над текстом. Он не торопил меня. Обычно, когда мы говорили о сроках окончания работы над словарем, Михаил Суренович, успокаивая, говорил: «Не волнуйся, над словарем мы будем работать всю оставшуюся жизнь». И это оказалась действительно так. Было издано три его исправленных и дополненных издания. И сейчас я пытаюсь подготовить новое издание, мысленно проговаривая каждую новую статью с Михаилом Суреновичем.
Однажды Михаил Суренович позвонил мне и сказал, что к нему обратилась доктор с периферии, работающая в практическом здравоохранении, и очень просила прислать «Энциклопедический словарь», так как ее экземпляр украли в больнице. Он попросил отослать ей новый экземпляр. По его интонации я понял, что он доволен, что если даже крадут нашу книгу, то она востребована не только учеными, но и практическим здравоохранением.
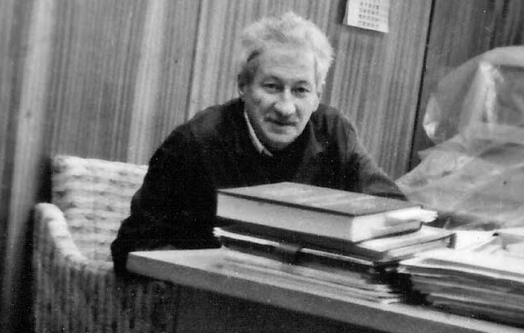
Наш украинский друг, профессор Львовского медицинского университета Б.А. Герасун предложил перевести и издать словарь на украинском языке. Издание появилось в тот период, когда украинский язык вновь стал доминировать в стране, и всю медицинскую документацию (включая истории болезни) обязали писать на украинском. Как впоследствии мне рассказывали украинские коллеги, украинский вариант стали использовать и как орфографический словарь, так как в нем появились термины, которые ранее не переводились на украинский язык. Мне очень жалко, что украинский вариант словаря Михаил Суренович не увидел, он вышел через месяц после того, как его не стало.
Сегодня мне кажется, что основным принципом работы Михаила Суреновича было стремление к совершенству, особенно в деталях. На меня произвело большое впечатление, когда на конгрессе по «Вирусным гепатитам», проходившем в Риме (тогда Михаил Суренович уже был признан как мировой лидер в изучении гепатита Е), до пленарного выступления на конгрессе он пригласил меня к себе в номер и дважды отрепетировал свой доклад.
С этим конгрессом связан еще один случай, отражающий умение Михаила Суреновича элегантно выходить из разных ситуаций. Оргкомитет конгресса, как и положено, издал первое информационное сообщение, в котором были перечислены фамилии членов оргкомитета, в том числе и Михаила Суреновича Балаяна, с указанием страны. В это время уже не было СССР, а была Россия. Вероятно, взяв за основу буклет предыдущего конгресса, в оргкомитет которого также входил Михаил Суренович, организаторы допустили ошибку, указав СССР вместо России. Оргкомитет был очень смущен, так как уже разослали по всему миру это информационное письмо. Обратились с извинениями к Михаилу Суреновичу, предложив перепечатать с исправлением письмо и вновь его разослать. На это Михаил Суренович пошутил, сказав, «не надо ничего менять, я постараюсь, чтобы к началу конгресса вернулся СССР». Все засмеялись, и инцидент был полностью исчерпан.
Часто бывает, что один и тот же человек на работе и в зарубежных командировках резко отличается. Мне повезло, я несколько раз был с Михаилом Суреновичем в зарубежных поездках (Китай, США, Япония, Испания, Италия) и могу свидетельствовать, что он оставался таким, каким был всегда. Его все знали и любили. Всегда доброжелательный. Я запомнил такие его шутливые фразы: «Меня любят приглашать в гости, я хорошо кушаю»; «В самолете надо есть все бортовое питание, которое тебе дают, это ваше проявление отношения к науке. Для вас специально научные учреждения рассчитывали калорийность на полет»; на банкетах во время конференций — «Каждый съеденный вами витамин пойдет на дело борьбы с гепатитом»

Мне бы хотелось отметить его заботливость. В то время (а это были в основном советские времена, когда командировочные были мизерные), поражало отсутствие у него мелочности. Одна фраза, которая многого стоит: «Если у вас есть идея (имелось в виду подарки домочадцам), и у вас не хватает денег, я их дам». Однажды в Японии мы искали подарки (для Михаила Суреновича было мучением ходить по магазинам). Мы купили, на наш взгляд, красивые баночки с японскими иероглифами, в которых, как мы предположили, был чай. Однако в Москве выяснилось, что в них был бульонный порошок, который мы съесть не можем (на наш вкус, отвратительный). Но баночки до сих пор стоят, напоминая о Японии. Самое же главное в этих командировках, помимо конференций, — общение, неспешные беседы. О чем были эти беседы? Ну, конечно, о гепатите и о жизни.
В Мадриде, где проходила конференция по гепатитам, участие в которой принимали М.С. Балаян, профессор Т.А. Семененко и я, оказалась моя сестра Наталья Ивановна Михайлова, сотрудник Государственного музея А.С. Пушкина. Ей нужно было провести переговоры с библиотекой Мадрида. Испанского языка она не знала, а переводчика не было. И вот Михаил Суренович, блистательно владеющий испанским языком, вызвался быть переводчиком в этих важных для московского музея переговорах. А потом в один из свободных дней мы все вместе посетили художественный музей Прадо. Михаил Суренович показал нам «из своих рук» картины Гойи. Память выхватывает из прошлого отдельные моменты. Когда мы стояли в длинной очереди в музей, Михаил Суренович отошел от нас, присел на лавочку к пожилому человеку и стал с ним о чем-то говорить (испанский язык он действительно знал в совершенстве). Причем со стороны было видно, что собеседники говорят с большим интересом и довольны друг другом. Когда он вернулся к нам, рассказал, что они говорили о луковицах тюльпанов, которые Михаил Суренович хотел посадить на своей даче.
Одним из основных качеств Михаила Суреновича было отношение к своим учителям и ученикам, о которых он заботился. В то же время, как обычно говорят, «он был строг, но справедлив». Его любили. Это относится и к его коллегам, как отечественным, так и зарубежным. Когда Михаил Суренович заболел, они организовали и оплатили его обследование и лечение в США у крупнейших специалистов, занимающихся его заболеванием.
Вспоминая Михаила Суреновича, я не могу не вспомнить его гостеприимный дом — небольшую, но уютную двухкомнатную квартиру в Сокольниках, и его супругу Викторию Дмитриевну с дочерью Ириной, которые составляли надежный тыл его жизни.

Меня всегда интересовал вопрос: ну все-таки почему именно Михаил Суренович первый открыл вирус гепатита Е. Я часто задавал ему этот вопрос. Он отшучивался, говоря словами анекдота — «Ну повезло». И лишь однажды он серьезно сказал: была ситуация, когда нужно было быстро, а самое главное, надежно определить — это новый вирус или вариант гепатита А.
Я думаю, для этого надо обладать смелостью, преданностью науке, любовью к жизни, быть Михаилом Суреновичем Балаяном.
Вирусные и гепатиты. История и истории / М.И. Михайлов. —
М.: Издательство ИКАР, 2025. — 480 с.: ил