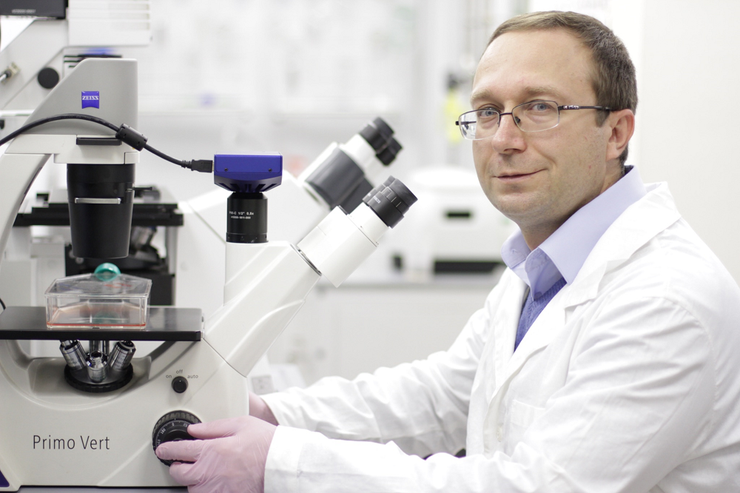Альберт Ризванов — профессор, Ph.D., доктор биологических наук, член-корреспондент Академии наук Республики Татарстан, директор научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины института фундаментальной медицины и биологии, заведующий лабораторией OpenLab «Генные и клеточные технологии», руководитель отдела поисковых исследований НОЦ фармацевтики КФУ. Почетный профессор фундаментальной медицины Ноттингемского университета, Великобритания. Заслуженный деятель науки Республики Татарстан. Область научного интереса — регенеративная медицина, генная и клеточная терапия.
— Альберт, добрый день! Регенеративная медицина и лечение с помощью стволовых клеток — это уже практическая отрасль или, как, например, омиксная биология, скорее пока фундаментальная наука?
— В лаборатории все уже давно и замечательно работает. Но донести продукт до потребителей пока сложно. Основные проблемы — стоимость, логистика и вопросы сертификации. Сделать препарат, который подойдет для всех, довольно непросто. Если взять так называемые аллогенные (донорские — прим. авт.) клетки у какого-то человека, размножить и применять для лечения других людей, — снимается проблема их получения и наработки в больших количествах, но встает вопрос иммунологической совместимости такого препарата у других людей.
Наиболее распространенная технология сегодня — это работа с мезенхимальными стволовыми клетками . Они обладают меньшей иммуногенностью, чем, скажем, гемопоэтические стволовые клетки, поэтому подбора пары донор-реципиент можно избежать. Но существуют вопросы транспортировки, подготовки, введения. Стволовые клетки, как и любые другие, транспортируются при сверхнизких температурах, минимум при −70o С.
Можно подойти к делу с точки зрения аутологичной трансплантации, когда у человека берут материал, выращивают из него стволовые клетки и применяют для лечения конкретно этого пациента. Но медицинские центры, в стенах которых происходит такое лечение, должны обладать наукоемкими лабораториями и квалифицированным персоналом. Отсюда — высокая цена на подобную терапию. А еще это нередко неинтересно фармкомпаниям, потому что аутологичное применение — больше способ лечения, чем собственно лекарственный препарат. Они же хотят построить большой завод, произвести что-то единообразное и потом продавать это.
И сверх того встает юридическая проблема: если это лекарство, то как его тестировать? Ведь вечный источник клеток невозможен, соответственно, каждая партия — это немножко другой препарат. А если он аутологичный — как провести доклинические и клинические испытания этого единичного лекарства? Если же говорить о редких (орфанных) заболеваниях, когда пациент гарантированно умрет без лечения, то у нас нет законодательной базы, которая позволяла бы тестировать лекарственные препараты на нем в рамках индивидуальных клинических исследований.
За рубежом такая экспериментальная терапия есть, потому что альтернатива — смерть пациента, причем иногда страшная — и для него самого, и для окружающих. Наше здравоохранение пока не готово к такому, действуя по принципу «Бог дал — Бог взял», так как боится ошибиться. На мой взгляд, к этому вопросу нужно подходить индивидуально, давая шанс и неизлечимо больному человеку, и медицине в целом.
— Опишите принцип регенеративной терапии.
— Термин «стволовые клетки» зачастую применяют как общий для любой клеточной терапии. Стволовые клетки — это неспециализированные клетки в организме, которые, как солдаты запаса, в случае необходимости активируются, мобилизуются и принимают участие в заживлении каких-то травм. А в норме они всегда участвуют в естественной регенерации организма, ведь наше тело постоянно стареет, и клетки нуждаются в обновлении. Стволовые клетки как раз отвечают за естественные процессы роста и обновления. В медицине их применяют по нескольким направлениям.
Главное — это регенеративная медицина. В отличие от ящериц, мы не можем отрастить себе новый хвост, но в теории, если ввести стволовые клетки в место травмы, то мы получим дополнительное ускорение к регенерации. Это и есть основная концепция регенеративной медицины. Еще у стволовых клеток есть способность мигрировать в очаги проблемы, потому что, по сути, это ремонтная бригада. В очагах травм или других дегенеративных процессов выделяются специальные биомолекулы, которые «чувствуют» стволовые клетки и идут направленно туда «на запах».
Поэтому их можно использовать как для системного лечения, так и для адресной доставки лекарственных препаратов, химических или генно-терапевтических. В последнем случае мы можем снижать системное воздействие, повысив концентрацию только там, где нужно, и усилив таким образом лечебный потенциал.
— Как такую терапию применяют в лечении рака? Что уже находится на стадии разработки, а что пока существует только в теории?
— Самая продвинутая на сегодняшний день терапия — противоопухолевая. Но речь здесь не совсем о стволовых клетках, а о генетически модифицированных Т-лимфоцитах. Это так называемая CAR-T-терапия , когда в клетки иммунной системы — T-лимфоциты — с помощью генетической модификации вносится химерный рецептор, который узнает молекулу, встречающуюся на поверхности опухолевых клеток.
Так мы можем «перепрошить» любую Т-клетку, чтобы она уничтожала опухолевые. Получается, мы «взламываем» ее систему опознавания «свой-чужой». И это достаточно эффективная терапия для некоторых видов онкопатологии, в первую очередь, опухолей кроветворной системы, например, В-клеточной лимфомы. Сегодня эту технологию активно пытаются адаптировать под другие типы опухолей.
Есть и другие подобные технологии. Например, метод дендритных вакцин. Его принцип можно сравнить с дрессировкой собаки, которой дают понюхать кусок одежды преступника, и она находит его по запаху. Так и дендритные клетки сначала обучают на примере выделенных антигенов опухоли, после чего вводят их в организм, и они начинают атаковать опухолевые клетки, распознавая их антигены.
Существует также заместительная терапия, когда индуцированные плюрипотентные стволовые клетки (iPS-клетки) с помощью дифференцировки превращают в нужные клетки и вводят в организм для лечения того или иного заболевания, например, сетчатки глаза или спинного мозга.
За открытие способа перепрограммирования клеток была вручена Нобелевская премия 2012 года [3] (Ред.).
Еще одно применение стволовых клеток — косметология: если ввести стволовые клетки в кожу, улучшается выработка коллагена, васкуляризация кожи, то есть они в целом оказывают омолаживающий эффект. Их используют при реконструктивной хирургии, в процедуре липофилинга, когда жир выкачивают из одной зоны в другую, чтобы придать объем; со временем этот жир рассасывается, а если ввести туда стволовые клетки — сохраняется гораздо лучше.
— Просто в СМИ очень много противоречивой информации по поводу стволовых клеток…
— Опасения вызывает возможность превращения стволовых клеток в опухолевые, ведь первые, подобно вторым, могут делиться много раз. Есть теория, что в основе зарождения опухоли лежит как раз генетический сбой в работе какой-то стволовой клетки, которая начинает бесконтрольно делиться. Доказано существование и так называемых стволовых опухолевых клеток. Эти клетки отвечают за метастазирование и устойчивость, резистентность к противоопухолевой терапии. Поэтому основной страх — это то, что стволовая клетка может «сломаться» и превратиться в опухолевую.
Эти опасения были связаны в первую очередь с применением низкодифференцированных, то есть очень-очень молодых стволовых клеток, таких как эмбриональные или индуцированные плюрипотентные. На заре клеточной терапии даже рассматривали применение фетальных стволовых клеток, получаемых из живых эмбрионов.
И действительно, в этих экспериментах иногда развивались тератомы — доброкачественные опухоли, когда клетка начинает делиться, превращаясь в месте введения буквально во все подряд: в зубы, волосы и другие ткани организма. Поэтому низкодифференцированные клетки в чистом виде сегодня уже никто не применяет. В дело идут лишь дифференцированные и предифференцированные, то есть такие, которые уже начали движение к тому, чтобы стать теми или иными типами клеток. Вероятность трансформации в опухоль у них чрезвычайно низка. Поэтому такая терапия с онкологической точки зрения может считаться безопасной.
— Изменилось ли направление ваших исследований в связи с пандемией COVID—19?
— Когда я работал в США, мы занимались вирусами, которые вызывают геморрагические лихорадки. После возвращения в Россию наша группа продолжила эти исследования. Поэтому к началу пандемии у нас был огромный опыт работы с инфекционными заболеваниями, и уже в феврале 2020 года у меня на руках был прототип вакцины против COVID—19. Но, увы, мы так и не смогли найти индустриального партнера, который бы заинтересовался ее внедрением. Тем не менее, мы применили наш опыт разработки иммунологических тестов, и уже весной 2020 года разработали иммуноферментный анализ (ИФА) на антитела к SARS-CoV-2, с помощью которого тестировали образцы для банка плазмы переболевших COVID—19 в Республике Татарстан.
Первых российских пациентов, зараженных коронавирусом, привезли в Казань, и некоторые из них как раз стали донорами-пионерами антиковидной плазмы — той самой, что содержит антитела против SARS-CoV-2. Переливание ее больным пациентам могло улучшить течение заболевания. Так наши разработки по другим вирусным заболеваниям пригодились и для очень оперативного ответа на новую пандемию.
Сейчас мы изучаем биомаркеры воспалительного ответа, то есть цитокинового шторма, чтобы понять эффективность антицитокиновой терапии, переливания плазмы, а также применения иммуноглобулинов. А еще исследуем, какие маркеры могли бы указывать на неблагоприятное течение заболевания или на необходимость проведения той или иной терапии. Ведь часто лечение подбирается методом «научного тыка», эмпирически, что несет в себе большие риски для пациента: пока подберут нужный вид терапии, может быть уже слишком поздно.
Мы ведем исследования и по эффективности вакцин. Осенью 2021 года, например, опубликовали работу по эффективности вакцины «Спутник V» и показали, что после прививки этим препаратом действительно формируется очень хороший иммунитет — как гуморальный, так и Т-клеточный. Иммунитет остается высоким в течение семи месяцев после вакцинации. Сейчас мы продолжаем исследовать его уровень уже на более длительном периоде, а также эффективность ревакцинации.
— Недавно в одном из интервью вы говорили про молекулярный докинг. Меня зацепило ваше выражение: «Архимед говорил: „Дайте мне точку опоры, и я переверну Землю“, химики говорят: „Дайте мне мишень, и я подберу по принципу „ключ-замок“ химическое соединение, которое будет действовать на определенный белок“». Действительно ли докинг столь всесилен, и с его помощью можно изобрести лекарство от любой болезни? Зачем тогда нужно исследовать другие подходы к терапии, и есть ли у молекулярного докинга слабые стороны?
— Первоначально считалось, что простым скринингом больших библиотек химических соединений можно «в лоб» решить вопрос поиска новых лекарственных препаратов. Но, увы, этого не произошло, и именно это сейчас лежит в основе кризиса в фарминдустрии. Ведь, чтобы фармкомпании процветали, им постоянно нужны новые лекарства — эффективные, продаваемые, так называемые блокбастеры. А сегодня найти их все сложнее.
Молекулярный докинг , то есть рациональный дизайн, помогает отчасти решить вопросы фармакологии, перенося скрининг в вычислительную плоскость или создавая новые химические соединения под определенные мишени с помощью алгоритмов искусственного интеллекта. Проблема в том, что не всегда найденные соединения обладают высокой избирательностью, поэтому у них бывают тяжелые побочные эффекты: грубо говоря, мы можем лечить мигрень отсечением головы. В связи с этим сегодня ренессанс претерпевает генная терапия, когда можно «зайти» в клетку и исправить генетический дефект, либо перепрограммировать клетку на то, чтобы она вела более «здоровый образ жизни». Но и здесь есть огромные сложности, потому что в пробирке можно вылечить что угодно, но как вылечить организм — большой вопрос.
Правда, здесь есть интересный нюанс, связанный с пандемией коронавируса. Почти все сегодняшние вакцины против SARS-CoV-2 — это, по сути, и есть генная терапия. Вакцины, такие как «Спутник V», доставляют генетическую информацию вируса в виде кДНК в клетки организма, заставляя их производить вирусный антиген для запуска иммунного ответа. Можно доставить информацию о вирусном антигене в клетку и напрямую, с помощью матричной РНК . Получается, что почти все люди на планете получат генную терапию, просто фармкомпании не заостряют внимание на этом, чтобы не пугать население.
О том, как работают мРНК вакцины, мы рассказывали на примере «Спутника V» [5] (Ред.).
Ученые, впрочем, видят, что это безопасно и эффективно, и что такой тип платформы можно использовать для создания других лекарств. Более того, если раньше разработка препаратов занимала многие годы, то сейчас внезапно выяснилось, что если очень хочется и есть политическая воля, то можно создать лекарство буквально за пару месяцев, и за полгода провести его испытания. Поэтому пандемия ускорила процесс разработки новых лекарственных препаратов, в первую очередь, генных.
Генная терапия — одно из основных направлений нашей работы для лечения редких наследственных, так называемых орфанных заболеваний. Мы применяем вышеупомянутые новые тенденции для разработки лекарственных препаратов конвейерным способом и можем одновременно разрабатывать десятки лекарств, тем самым существенно снизив себестоимость каждого конкретного и сделав ее более доступной для пациентов.
— Какие еще перспективные направления есть в вашей работе?
— Есть так называемая мультиомиксная медицина, когда анализ заболевания делается не по одному или нескольким параметрам, а сразу составляется его расширенный «портрет» — белковый, геномный, протеомный, метаболомный, транскриптомный и т.д. Получается, что мы, по сути, создаем цифровую модель человека, причем не статическую, а динамическую. Это полезно для ранней диагностики заболеваний, потому что даже небольшие изменения, которые мы наблюдаем, могут свидетельствовать о развитии патологии, хотя параметры остаются все еще в пределах нормы. Не говоря уже о том, что норма для каждого своя, что позволяет подбирать для пациентов индивидуальную терапию. Плюс к этому мы работаем с различными носимыми устройствами — датчиками и гаджетами, которые регистрируют состояние пациента.
— Когда ждать массового внедрения таких технологий?
— Диагностику, например, мы уже предлагаем нашим пациентам в Научно-клиническом центре прецизионной и регенеративной медицины при институте фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета. Проблема массового применения — это, возвращаясь к началу нашего разговора, во-первых, стоимость, а, во-вторых, законодательство.
— Если оглянуться назад, какими своими разработками вы больше всего гордитесь?
— У нас очень интересные работы в области регенеративной медицины, а именно травм периферических нервов, спинного мозга. Мы занимаемся, например, двигательной реабилитацией пациента, разрабатывая технологии нейрорегенерации, которые повышают восстановление нервной системы.
Именно сейчас удалось заинтересовать большой бизнес в финансировании проектов по генной терапии наследственных орфанных заболеваний. И мы надеемся, что этот год будет для нас переломным, и мы наконец запустим подобные проекты на рельсы внедрения — доведения препарата до лицензирования и клинического применения.
— Какие из ваших проектов — самые необычные?
— Интересных проектов очень много. Можно выделить регенеративную ветеринарию, где мы разрабатываем видоспецифичные лекарственные препараты для лечения животных, например, спортивных лошадей. Теоретически мы можем проводить терапию и редких животных в зоопарках.
Еще один уникальный проект — разработка искусственных микровезикул (синтетических микроконтейнеров — прим. авт.) для регенеративной медицины и в качестве носителя для создания вакцинных препаратов. Суть в том, что мы создаем биоподобные микровезикулы из клеток человека у животных. И в отличие от естественных микровезикул, чей выход очень маленький («чайная ложка на ведро клеток»), соответственно, их крайне сложно применять в биотехнологических производствах — наши подходы позволяют на порядки увеличить выход таких микровезикул, а также запрограммировать их свойства.
Препараты на основе этого подхода могли бы в будущем развиться в новую отрасль биотехнологии. В целом, самые интересные исследования сейчас проходят на стыке наук. Поэтому, когда биологи и медики работают в отрыве друг от друга, ничего хорошего обычно не выходит. Но если они объединяют усилия, а еще привлекают химиков, физиков, айтишников, то проекты становятся прорывными и конкурентоспособными.